Американская и европейская модели организации железнодорожной отрасли: уроки для России
Вы здесь
Станция Хобокен, Нью-Джерси, США. Фото: Eduardo Munoz / Reuters
Экономист Фарид Хусаинов рассказал о том, как устроены железные дороги на Западе
Железные дороги не обязательно должны регулироваться централизованно, как в России. Частные компании вполне способны сами не только эффективно перевозить грузы, но и договориться о единой ширине колеи и даже часовых поясах. А в России больше всего железных дорог строилось не при централизованном планировании, а во времена частных компаний при царе.
Об этом рассказал 30 января 2015 года на лекции «Американская и европейская модели организации железнодорожной отрасли: уроки для России» экономист Фарид Хусаинов. «Русская планета» публикует его выступление в обработанном виде с сокращениями.
Американская и европейская модели организации железнодорожной отрасли: уроки для России
Почему это важно?
Перескажу вам сцену в купе поезда по дороге в Саратов, которую я наблюдал в 2003 году. Тогда еще существовало Министерство путей сообщений (МПС), а частных вагонов было только 20%. В купе ехали трое — я, преподаватель экономического вуза Саратова и железнодорожник.
И вот преподаватель говорит:
— Реформу какую-то придумывают, чтобы вагоны были частными. Это же в принципе невозможно.
Железнодорожник отвечает:
— Как это невозможно? У нас уже 20% вагонов частные.
Преподаватель:
— Ну вагоны ладно, но такого, чтобы инфраструктура и локомотивы были частными, точно никогда не бывает!
Железнодорожник:
— В США и локомотивы, и инфраструктура частные.
Преподаватель посмотрел на него недоверчиво и говорит:
— Это в западных странах работает, а у нас так не получится.
Но и тут его железнодорожник разочаровал:
— Вообще-то до революции в России железные дороги были частными.
Тут оба собеседника пришли к выводу, что часто что-то, кажущееся нам ошибочным или вражеским, просто-напросто непривычно. В этом контексте полезно разобраться, как устроены железные дороги в США и Европе.
Чем отличается Европа от Америки
Напомню, чем отличается «американская» модель железных дорог от «европейской». В «американской» нет единого хозяйствующего субъекта вроде МПС, в ней преобладают вертикально-интегрированные компании, то есть владеющие и инфраструктурой, и подвижным составом. Это некоторое количество вертикально интегрированных компаний друг с другом конкурирует, в том числе проезжая по инфраструктуре друг друга. Она называется «американской» не потому, что существует только в Америке. Такая модель есть в Японии, Аргентине, Бразилии, Канаде.

Фарид Хусаинов. Фото: личная страница во «ВКонтакте»
Ее противоположность — «европейская» модель, которая обычно сводится к тому, что есть единая инфраструктура и множество компаний, владеющих вагонами (локомотивами) и осуществляющих перевозки по ней.
Инфраструктура может быть в некоторых странах частной; в некоторых — государственной; в некоторых — частной, но получающей дотации от государства. Однако всегда является единой, принадлежащей единственному собственнику.
Когда в России началась железнодорожная реформа, встал вопрос, какую из этих двух моделей выбрать? В отличие от многих других вопросов экономическая наука не пришла к единому мнению, какая модель лучше.
«Европейскую» модель проще регулировать, но в ней у компаний меньше стимулов инвестировать. В «американской» модели плюсы и минусы противоположны. Например, были большие опасения, что в «американской» модели возникнут локальные железнодорожные монополисты в некоторых регионах. Но у нее есть большой плюс. Когда в собственности компании и инфраструктура, и дороги, и локомотивы, она сама понимает, что ей нужно сегодня сделать — больше построить дорог, вагонов или локомотивов.
Как рождались железные дороги в США
Поговорим сначала про опыт США.
Сеть в США устроена таким образом, что одна и та же местность может обслуживаться разными дорогами, хотя не обязательно — иногда одной, которая заключает договора с другими, чтобы они могли возить по ее путям. И тарифы на перевозки в Америке централизованно не регулируются.
Устройство железных дорог в США особенно не привычно для нас, потому что мы привыкли, что есть одно МПС. В США действует 500 железнодорожных компаний, из которых семь первого класса, 33 региональные компании, 320 местных и, наконец, 205 самых маленьких, локальных компаний, который могут иметь в собственности, например, одну сортировочную станцию.
История железных дорог США начинается с 1827 года, когда компания Baltimore & Ohio Railroad начала строить первую в истории страны железную дорогу между Балтимором и Огайо в штате Мэриленд.
В декабре 1830 года была открыта вторая железная дорога Чарльстон — Огеста в Южной Каролине протяженностью 64 километра.

Рабочий у локомотива на Мичиганской Центральной железной дороге в США, 1904 год. Фото: Библиотека Конгресса США
Протяженность железных дорог в США росла — с 49 тысяч километров в 1860 году до 414 тысяч в 1900 году.
Тут необходимо сделать пояснение о том, как устроено американское общество. При прочих равных оно — в отличие от российского — больше доверяло региональным единицам (штатам, общинам), чем центральному правительству. На первом этапе была попытка строить железные дороги федеральным правительством, но ее пресекло общество, поскольку небезосновательно считалось, что участие государства приводит к коррупции.
Однако властям штатов было разрешено заниматься строительством железных дорог. Они всячески старались привлекать частные компании в свои штаты, потому что понимали — если есть железная дорога, то местные фермеры смогут отправлять по ней свое зерно. Доходило до того, что власти некоторых штатов платили взятки железнодорожным компаниям, чтобы те проложили дорогу через их штат. Вот такой парадокс.
Поэтому сеть и получилась разветвленной, что не было централизованного плана.
Сила децентрализации
Три факта, которые проиллюстрируют степень децентрализации при строительстве железных дорог в США.
Во-первых, все знают, например, что в России есть единая ширина колеи. В США уже в 1865 году половина сети была одной колеи, а половина — самых разных размеров, как больше, так и меньше. Что интересно, не государство сказало: «Ну-ка, железнодорожники, "перешить" колею!» Нет, сами железнодорожники собрались и решили переделать колею там, где она отличается от стандартной, «разбросав» на всех участников стоимость этой «перешивки».
Второй факт, который — если вы из РЖД — вас поразит. На разных железных дорогах не было единой системы сигнализации. Машинист, ехавший с одной дороги на другую, мог увидеть неизвестный ему сигнал. Американская общественность считала, что это вопрос бизнеса, какие у него будут сигналы, и государство не должно вмешиваться. Частные компании собрались, выработали единую систему сигнализации, и впоследствии новые железнодорожные компании присоединялись к этой системе.
Третий пример даже выходит за рамки отрасли. В США долгое время не было единой утвержденной системы часовых поясов.

Железная дорога в Нью-Йорке. Фото: Richard Drew / AP
В связи с этим вспоминается история с Петром Андреевичем Клейнмихелем, главноуправляющим путями сообщения в Российской империи. Как-то он приехал из Москвы во Владимир и обнаружил, что его часы, настроенные по Москве, расходятся с часами на вокзале, поскольку, по словам сопровождающих, здесь местное время и «другой меридиан». Граф возмутился: «Кажется, всякий дрянной городишко хочет иметь свой меридиан? Ну, положим, Москва — первопрестольная столица, а то и у Владимира свой меридиан!» И велел установить на железнодорожных станциях по стране единое время.
В США частные железнодорожные компании для удобства пассажиров договорились о введении часовых поясов и подверстывании расписания под эти пояса. А уже потом нежелезнодорожная общественность переняла идею часовых поясов и распространила их на все сферы жизни.
Эти примеры показывают, насколько иначе развивались железные дороги в США.
Спрут, опутывающий общество
Чтобы у вас не сложилось ощущение, что там не было никаких проблем, приведу другой пример. В какой-то момент на американских железных дорогах сильно участились пожары. Тогда было необязательно держать в поездах огнетушители. Если кто-то погибал из-за пожара, то его родственники шли в суд, который решал, кто виноват и надо ли платить компенсацию. Это абсолютно нормально для американской культуры, которая считает, что не надо без необходимости плодить лишние правила.
Но компании росли, богатели, нанимали лучших адвокатов, и в какой-то момент граждане обнаружили, что ни один иск против железных дорог за последнее время не был выигран. Они пришли в ярость и потребовали от местных властей что-то сделать. А эксперты как раз обнаружили, что наличие огнетушителя в вагоне сильно снижает риск гибели пассажиров. В результате бизнес обязали держать огнетушители. «Между 1900 годом, когда появились первые регуляторные требования к безопасности на железных дорогах, и 1915-м количество жертв, в расчете на пассажиро-милю, упало в 25 раз!», — пишет об этом эпизоде истории Константин Сонин в книге «Уроки экономики».
Вот две цитаты об американских железных дорогах в XIX веке, до государственного регулирования. Американский экономист Милтон Фридман писал: «Конкуренция была жесточайшей. Вследствие этого тарифы на перевозку грузов и пассажиров, были, вероятно, самыми низкими в мире».
Министр путей сообщения Российской империи Сергей Юльевич Витте об американских железнодорожных компаниях писал, что они «режутся тарифами, конкурируя между собой, они страшно понижают тарифы и приводят друг друга в истощенное состояние».
К концу XIX века у железных дорог создался неблагоприятный образ — спрута, опутывающего общество. Тарифы на перевозку зависели от спроса и предложения, и порой на коротких маршрутах были не сильно дешевле, чем на дальних, если эти маршруты не пользовались популярностью. Что стороннему наблюдателю казалось несправедливым. Больше всех возмущались «несправедливостью» фермеры Среднего Запада. Государство стало вмешиваться в тарифы, а в результате перевозки на некоторых направлениях по пониженным, «справедливым» тарифам стали для бизнеса невыгодны, и в начале 1960-х там образовался дефицит вагонов. Ситуация с их дефицитом описана в культовом романе Айн Рэнд «Атлант расправил плечи», вышедшем в 1957 году. Так что это не фантазия романистки, а, скорее, безошибочный прогноз.
В те времена появляется термин «катапультирование» — когда топ-менеджер крупной транспортной компании становится чиновником не для того, чтобы регулировать компанию для пользы общества, а, наоборот, чтобы не дать госорганам регулировать ее так, как это компании не выгодно. В результате цены на услуги частных компаний стали расти, хотя общественность изначально требовала регулирования совсем для другого — чтобы цены снижались.
Ситуация продолжала ухудшаться вплоть до 1980 года, когда около 20% компаний стали банкротами или оказались на грани банкротства. В 1980 году был принят так называемый «Акт Стаггерса о железнодорожном транспорте», который снижал регулирование отрасли. Благодаря этому закону грузооборот железных дорог в США увеличился в 2 раза с 1980 по 2008 год, а производительность труда — в 2,5 раза. Правда, доходы несколько упали, но поскольку компании очень активно оптимизировали свои расходы, то рентабельность выросла.
Идея о том, что тарифы должны устанавливаться не по знакомому в России принципу «издержки плюс», а на основе спроса и предложения, глубоко укоренилась в Америке. В одном из самых популярных в США учебников по логистике Джонсона и Вуда авторы учат американских студентов (и это касается не только железнодорожного, а всех видов транспорта): «Цена перевозки для каждого рейса всегда может стать предметом переговоров, т.к. цена является функцией спроса и предложения на транспортировку. Например, если спрос на перевозку свежих продуктов к востоку от Калифорнии повышается, то там тарифная ставка в шесть раз выше, чем за аналогичную перевозку с Запада в Калифорнию».
Обратите внимание, что это цитата не из статьи радикальных либертарианцев, это стандартный американский вузовский учебник. Так там учат студентов.
Американские железные дороги добились наименьшей в мире численности персонала на 1 километр эксплуатационной длины путей — 0,9 работающих на 1 километр пути. Для сравнения: в России в 2000 году было 16 работающих на 1 километр эксплуатационной длины, а в январе 2011-го — 11,6 работающих на 1 километр. Имеет смысл сравнивать по этому показателю Россию именно США, потому что это большие страны — с маленькой Австрией нас сравнивать бессмысленно.
Главный вывод — перевозки по железной дороге не обязательно должны быть устроены так, как в РЖД.
Приватизация по-английски
В Британии приватизация железных дорог была проведена при премьер-министре Маргарет Тэтчер.
Британские железные дороги, которые с момента создания были частными, после Второй мировой войны были в несколько этапов национализированы.
5 ноября 1993 года в Великобритании был принят Закон о железнодорожном транспорте, в соответствии с которым с 1 апреля 1994 года Британские железные дороги (British Rail) как единое целое окончательно прекратили свое существование. Вместо них была образована компания Railtrack, владеющая инфраструктурой железных дорог (в мае 1996 года ее акции были проданы на Лондонской бирже). Также на сети начали работать пассажирские и грузовые компании — операторы подвижного состава, владеющие вагонами и локомотивами.
Компания Railtrack так и не стала на 100% частной в полном смысле этого слова. На нее было наложено множество ограничений и запретов. Британское законодательство предусматривает «государственное вмешательство во всех случаях, когда со стороны компании будет проявляться стремление получить сверхприбыль от инвестиций или отказаться от проектов развития без достаточно обоснованных причин».
В марте 2002 года Великобритания восстановила государственную собственность на железнодорожную инфраструктуру, причем в обществе укрепилось мнение, что крах Railtrack был вызван не государственным регулированием, а неспособностью рыночных сил управиться с железными дорогами.

Железная дорога в Великобритании. Фото: Reuters
«Железные дороги были приватизированы в 1994 году, к 1999 году опоздания поездов сократились почти вдвое, в 91% случаев они приходили вовремя. Сейчас дороги возвращаются под контроль государства, поезда опять стали опаздывать, расписанию они соответствуют только в 82% случаев.
После приватизации инфраструктурная компания Railtrack получала государственные субсидии в объеме 1,2 млрд фунтов. Ее последователь, назначенная государством компания Network Rail, каждый год поглощает больше 4 млрд фунтов», — так описал ситуацию доктор Эрмон Батлер, директор института Адама Смита.
Смит также рассмотрел структуру расходов этой компании. Как только компания она стала государственной, сразу же увеличила расходы на зарплату высшему руководству. А инфраструктура подождет.
Анализ реформ в Великобритании позволяет сделать следующие выводы.
Можно выделить два важнейших аспекта преобразований — форма собственности и степень государственного регулирования.
Отказ от государственной формы собственности (приватизация) привел к улучшению как эксплуатационных (грузооборот, пассажирооборот, погрузка), так и экономических показателей. Главным из экономических успехов приватизации стал бурный рост инвестиций в подвижной состав и инфраструктуру.
Вместе с тем, высокая степень государственного контроля отрасли не позволила британским железным дорогам развиваться эффективно.
Таким образом, опыт британских железных дорог продемонстрировал, что приватизация — условие необходимое, но не достаточное для достижения успешных результатов реформы. Не меньшее значение имеет экономическая свобода, то есть отсутствие государственного вмешательства в работу отрасли.
Например, когда Railtrack хотела закрыть убыточный участок, ей говорили, что нельзя — там социальные перевозки — условно говоря, трех бабушек в год перевозят. Railtrack хотела запустить новую линию — ей говорили, что нельзя, ведь это убьет автобусные перевозки. То есть как-то только компания хотела повысить свою эффективность, ей это запрещали. Надо понимать, что от бизнеса можно требовать либо социальной, либо экономической эффективности, но нельзя требовать обе одновременно, так как они часто противоречат друг другу.
Государственное регулирование может «убить» как раз те стимулы и экономические механизмы, ради которых проводилась приватизация.
Когда Россия строила дороги
Возвращаясь к России и случаю в купе, о котором я рассказал в начале лекции. В 1838–1867 года в Российской Империи было построено 5009 километров железных дорог, в 1868–1917 годах 71 231 километров, а в 1918–1991 годах — 50 594 километров.
Если исключить период восстановления дорог после Великой отечественной войны, то в царской России при существовании частных компаний путей в год строилось намного больше, чем при советском централизованном планировании.
Чужая колея / Николай Дзись-Войнаровский / В мире, Лекции
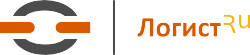



По поводу «европейской модели» могу немного пояснить как это выглядело на примере Латвийской железной дороги (ЛДЗ).
До реформы, в Латвии ЛДЗ являлась естественным монополистом-перевозчиком. После реформирования, ЖДЗ была поделена на: “LDZ” (инфраструктура) и “LDZ Cargo” (перевозчик). Давайте оставим за рамками рассмотрения все остальные структурные подразделения ж/д: связь, энергоснабжение, путейцев и т.д, а рассмотрим что получилось в результате реформирования данного предприятия.
Получили 2 различных ООО, функции которых нередко дублируются, «пересекаются» и кроме того утрачен принцип единоначалия на ж/д. Поскольку «движенцы» были отнесены к инфраструктуре, а «коммерсанты» - к инфраструктуре, но на крупных станциях (по новому – терминалах) мы получили по 2 администрации, которые воющем-то обязаны взаимодействовать между собой для лучшего обеспечения работы станции (терминала). В реальности получается что, дежурный по станции подчиняется начальнику станции («инфраструктура»), а маневровый диспетчер, товарная касса – начальнику терминала («перевозчику»). Надо сказать, что не всегда на местах «инфраструктура» и «перевозчик» находят между собой общий язык...... То же самое можно сказать и о штате управления. Если, раньше в «жёлтом доме» располагалось управление Прибалтийской железной дороги (территориально: Эстония, Латвия, Литва и Калининградская область), то сейчас, общее кол-во персонала там не помещается и им приходиться занимать для размещения разбухшего штата и другие здания (хотя – по размерам ЛДЗ будет гораздо меньше ПБЛТ ж.д.).
Дробление одной большой компании на несколько маленьких, обязательно приводит к росту штата и соответственно - к увеличению фонда заработной платы, что влечёт за собой увеличение себестоимости перевозок в целом и снижения перевозчиком своей конкурентоспособности.
Можно добавить так же что, реформирование ж/д перевозок способствовало появлению у нас еще 2-х независимых перевозчиков (не будем рекламировать их здесь). К сожалению, свои услуги они предлагают в основном по нескольким направлениям перевозок (в основном – к портам) и для массовых грузов. Казалось бы – всё замечательно, но выявилась и «другая сторона медали» - влияние работы нескольких независимых перевозчиков на пропускную способность ж/д. Объясню в чём проблема: в существующем графике движения поездов, для каждого из перевозчиков выделены свои «нитки» графика........только вот, не во всех случаях подход поездов по этим «ниткам» совпадает наличием локомотивов/наличием локомотивных бригад у конкретного перевозчика или – возможностью их подсылки. В связи с чем, появляются дополнительные простои вагонов (поездов) на станциях смены локомотивов и припортовых станциях, что собственно отрицательно сказывается на показателях их работы........
Надо сказать, что государство на 100% является собственником «инфраструктуры» и «перевозчика» и жёстко контролирует их деятельность.
Хочу так же высказать своё скромное мнение по поводу итогов реформирования РЖД.
На мой взгляд, железные дороги в России являются «государствообразующим предприятием» поскольку, их деятельность направлена на соединение между собой различных регионов страны как экономически, так и в политическом и культурном отношении. Поделив ж/д и подвижной состав по европейскому образцу, получили в общем и целом снижение эксплуатационных показателей ж/д. С появлением, массы различных собственников подвижного состава, увеличился:
- % встречного пробега порожних вагонов,
- коэффициент порожнего пробега;
- рейс вагона.
Первые 2 показателя напрямую влияют на пропускную способность ж/д, кроме того, собственники универсального подвижного состава не всегда находят погрузку для своих вагонов и вынуждены либо держать их где-либо на станциях выгрузки, либо – направлять (в порожнем состоянии) в другие регионы, где они могут обеспечить им погрузку, что вобщем-то оказывает на процесс ценообразования перевозок. Ранее, распределением порожних вагонопотоков, централизованно занималась сама ж/д (уровень отделения дороги и выше).....За встречные пробеги порожняка причастных работников, «по голове не гладили».
Разделение общего парка ж/д с передачей его различным перевозчикам реальной пользы не принесло. Особенно хочу отметить пассажирские перевозки (пригородные и дальние). Пассажирские перевозки являлись убыточными и ранее, но т.к. они несли большую социальную нагрузку, цены на пассажирские перевозки не были для населения страны большими в виду их социальной значимости. Более того, железные дороги, компенсировали (в условиях реального хозрасчёта) эти убытки, прибылями от грузовых перевозок эффективно используя подвижной состав. Сейчас – такой возможности нет. Всё переложено на местные власти, а их возможности – не безграничны.
И в завершение хочу добавить, что бизнес сам по-себе ничего организует, если только не будет иметь от государства чётких установок: что и где (конкретно) надо организовать/реорганизовать и подробнейшие указания КАК это следует сделать. Причём, желательно на долгосрочную перспективу.
На мой взгляд, расделение ж/д на множество "независимых" структурных подразделений, перевозчиков, вычленение в обдельную отрасль пассажирских перевозок - ничего кроме вреда для отрасли не принесло.